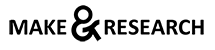Всё-таки вырвался на охоту!
Удрал от телевизора, от пивных банок у дворовой лавочки, от трамвайного грохота, от своей шоферской дальнобойной работы. Дороги мои северные: безлюдье, редкие деревни, пихты, запах огромных болот, уходящих чахлыми сосёнками к горизонту, редкие кафе, около которых всегда валяются берёзовые кряжи, пахнет опилками и дымом. И вот, бывает, навеет через открытый ветровик вместе с этим дымом прелью лесной, и такая тоска возьмёт! Тогда кинуть бы всё – и за Волгу, в глухие керженские леса, жить там, не видеть никого. Но борюсь я с этим желанием, надо работать – у меня семья, жизни без которой я давно уже себе не представляю. У меня замечательная жена и совсем маленький сын. Он только-только научился ходить, он очень рано поднимается утром, бывает, что раньше меня, залезает ко мне, ещё сонному, на кровать, обнимает неумело и говорит: «Папулечка, люблю…» А ещё из множества фотографий в охотничьих журналах легко выбирает глухарей и зайцев.
Зарплата у меня, сказать по совести, хорошая, вот и работаю, ведь без денег теперь и охоты-то путной не получается: до места добраться, так только бензина на тысячу сожжешь. Случается, так устаю, что желание одно: упасть и уснуть, да только командировка за командировкой. И вот где-нибудь в вологодских лесах катишь ночью с увала на увал по дрянной дороге, и не разогнаться, не обогнать «камаз», впереди плетущийся. И хочется есть до тошноты, но только до ближайшего кафе пилить и пилить ещё. Тогда начинаешь разговаривать сам с собой, ругаться и по-чёрному материть встречного шофёра, что вовремя не переключает фары с дальнего на ближний свет. Когда же, наконец, доберешься, тебе тут же говорят: «О! Приехал уже! Как хорошо. Давай-ка под погрузку».
В этот раз тоже так было. И, возвращаясь, я решил, если снова повториться это «О!» – уволюсь к лешему. Приехал, сразу к директору с заявлением на отпуск. Посмотрел он на меня, видно, на лице моём что-то увидел и молча заявление подписал.
До посёлка торфоразработчиков меня вёз и всю дорогу веселил анекдотами безотказный дружок мой Серёга. Дальше узкоколейкой добрался до Антонова болота и пешком ещё километров восемь, перебираясь иногда через речку Берёзовку, запрятанную в канавы добытчиками торфа. За канавами лежали нетронутые мхи, а ещё дальше – Керженец, всегда манившая меня таинственная река, по берегам которой, на развилках лесных дорог, ещё можно встретить огромные почерневшие кресты.
Теперь я живу в землянке среди леса и болот, богатых клюквой, на которую слетаются по утрам тетерева. С чёрной торфяной воды (небольшие оконца её во множестве прячутся во мхах) мне часто случается поднимать тяжёлых кряковых уток, а в приболотных лесах постреливать рябчиков. Я совершенно счастлив, потому что не думаю больше ни о чём, кроме тетеревов, уток и рябчиков, потому что спокойно брожу по этим мхам, не боясь куда-то опоздать. Как хорошо, что могу позволить себе такую роскошь: никуда не спешить, не забивать голову всякой чепухой.
Октябрь стоит удивительный: тихий, по утрам влажный от росы и холодных туманов, дышащий запахами опавшей листвы и грибов. Каждое утро огромное тусклое солнце поднимается надо мхами, и тогда я слышу бормотание тетеревов, обманутых осенью, недолгое и невнятное, словно во сне. Дни ясные той особенной осенней ясностью, когда кажется, что неяркое солнце разлито везде, и даже сумрачный непроходимый ельник будто светится изнутри золотом. Сознание того, что всего за одну ночь всё это может враз исчезнуть и на утро по небу понесутся клочьями низкие тучи, рождает
чувство хрупкости этого увядающего мира. Невольно ходишь тихо, стараешься не брякать котелком и даже не стрелять лишний раз – боишься спугнуть всё это.
Несколько дней я бродил по гривам недалеко от землянки, в которой живу, подолгу сидел на соснах, поваленных ветром. Застрелил лишь пару тетеревов на похлёбку. И всё не верилось, что нет теперь ни солярного чада, ни мокрого ночного асфальта, на котором под фарами ни черта не видно. Нет всей той суматошной жизни, от которой я так устал. Ещё какое-то время я задавался вопросом: зачем трачу так много сил на зарабатывание денег, которые превращаются потом в телевизоры, музыкальные центры, куртки, дублёнки и прочий хлам? Но скоро и об этом перестал думать, отдался моему житью-бытью здесь, и мысли мои стали светлы и просты.
Землянку вырыли когда-то заготовители клюквы. Было то давно, и за клюквой в эту глушь теперь никто уже не забирается, чему я очень рад. Землянка сохранилась хорошо, сохранились печь и широкие нары. Рядом я сладил стол и растянул над ним полиэтилен, что принёс с собой. Под навес часто заглядывают синицы. Шуршат по ёлкам, что стоят вокруг, потом потихоньку, с ветки на ветку, с былинки на былинку – к столу, заглядывают в пустой котелок, собирают остатки каши. После обеда я долго не мою котелок, жду синиц. Бывает, я подкармливаю их овсяным печеньем: мелко крошу и оставляю на столе.
Ещё ни один звук оставленного мною мира не долетал до этих болот. Вечерами я подолгу сижу у костра, слушаю шелест сухих осиновых листьев – не облетевшая осина стоит у землянки. На многие километры вокруг нет жилья, да и людей, скорее всего, нет. Я смотрю на звёзды, слушаю костёр, потом ухожу в землянку. Там такая тишина, будто накрыли меня с головой ватным одеялом. Но порою непонятная тревога посещает меня, тогда долго ворочаюсь, не могу уснуть, выхожу за дверь, подолгу стою там.
На ягодниках я постреливаю рябчиков. Было раз: прошёл уже пару особенно хороших брусничников, останавливался, манил. Сильно надеялся на это место, да только синицы шуршали по голым веткам. Но лишь ружьё на плечо повесил и – всегда вот так – фыр-р-р! Вздрогнул, схватился за ружьё. Рябчик сел вполдерева на мохнатую ель. Я застыл, впился взглядом в место, где нырнул он в еловые лапы, но чем дольше смотрел, тем больше сомневался: тот неясный силуэт среди хвои – рябчик ли это? Попробовал охватить, окинуть всю ель разом – на ней было много тёмных пятен. Потерял и первое. И когда чуть шевельнулся, ель осталась недвижной, не шевельнулась нигде. Сделал несколько шагов, ещё несколько. Уже от ели на верный выстрел, готовый бросить ружьё к плечу. Засомневался: может он и не садился сюда, а просто пролетел сквозь, обманул?
Фыр-р-р! Снова вздрогнул. Вздрагиваю всегда, даже когда жду этого взрывного срыва. Рябчик был на другой стороне ели, скрытый ею, слетел невредимый, сел где-то в болоте.
Я полез за ним от сосёнки к сосёнке, которые здесь долго не живут, чахнут, падают; цепляешься потом за них ногами. Шёл осторожно, медленно, ждал. Рябчика не поднял больше, но увидел издалека, сквозь редкие сухие стволы стройный ряд молодых берёзок, ещё не облетевших полностью, жёлтых, и догадался, что бровка там, а значит, канава рядом и вода. Приготовился заранее: поменял в стволах семёрку на пятёрку, надеясь на уток. Они взлетели шумно, крикливо, их было много. После моего дуплета одна упала на другую сторону канавы в берёзки. Запоздало поднялась ещё тройка. Чтобы перебраться за уткой, я долго брёл вдоль канавы, пока не отыскал переход. Несколько жердин ходили под ногами ходуном, доставали до застоялой воды, шлёпали по ней.
Особые отношения у меня с глухарями. По лицензии могу добыть двух, но и одного ещё не видел за все дни. Я их только слышу. Каждый день слышу, как большие птицы с шумом поднимаются совсем рядом от дороги, по которой я хожу. Только один раз мелькнуло по низу большое и тёмное.
Специально искать глухарей я отправился на пятый день моего житья здесь. Пошёл гривами в сторону Керженца, на его берегах планируя и заночевать. В диких борах там во множестве жили глухари. Солнце ещё не поднялось, лишь на востоке ясно вырисовывались силуэты огромных старых елей; ночь долго не уходила из болот, дышала
на меня холодом и сыростью. Становилось вокруг всё глуше и глуше, скоро и гривы закончились, дальше мхами уходила едва заметная тропа. Кто, когда ходил по ней, мне не узнать. Может, собиратели клюквы, а может, бородатые раскольники – Керженец всё же. Только ходили по ней давно: тропа глохла с каждым моим шагом, наконец, я совсем потерял её, шёл дальше по компасу и карте. Здесь, разбившись на рукава, текла уже вольная Берёзовка. Пошли камыши выше моего роста, мхи под ногами заколыхались, словно шёл я по гигантскому надувному матрасу; раскачивался вместе со мхом и корявый ольшаник. Много ольховых стволов лежало, по ним я и перебирался через речные протоки. Чтобы не ломать ног, забрался немного южнее, решив выйти к Керженцу чуть пониже. Вскоре болота закончились, я выбрался на материк и пошёл песками, вековым сосняком. Древняя, нетронутая тишина была вокруг. До Керженца оставалось совсем немного, и к обеду я вышел к нему – словно впаянный в берега лежал Керженец среди высоких сосен.
Я зачерпнул воды в котелок, развёл небольшой костёр. Сухие сосновые сучья горели весело, жарко. Нет-нет, да навевало запахом лета – солнцу ещё хватало сил разогреть сосновые стволы до смоляного духа.
Глухарей оставил до утра, решив просто побродить по этим местам, подышать Керженцем. Я напился чая, припрятал рюкзак, топор, взял с собой только ружье и нож, пошёл высокими сухими местами. Огромная, какая-то нездешняя сила была в высоченных соснах, древних песках, на которых росли, брали из них эту таинственную силу могучие, никогда прежде не виданные мной деревья. Кое-где песок был вымыт из-под них весенним Керженцем, и тогда стояли сосны на своих корнях как на корявых, крепких ногах.
Километра через четыре путь мой пересекла дорога, идущая вроде бы в сторону реки, свернул на неё. И хотя скоро стало ясно, что иду совсем не туда, я почему-то упорно не хотел себе в этом признаться, упрямо не преставая надеяться, что за следующим поворотом обязательно откроется река. И поворотов было уже много, и казалось иногда – блестит впереди. А когда сереть стало, и правда заблестела впереди вода.
Я, было, сник совсем, а тут повеселел: всё же не обманулся, правильно вышел. Но река была даже сквозь сумрак недвижной, заглохшей, не было по берегам сосен, а ивняк кое-где и непролазный совсем. Оказалось – не река, а одна из многочисленных глухих керженских заводей.
Темнело, и я стал готовить ночлег. Не было у меня ни пилы, ни топора – нож один; поэтому приготовления все мои были: стащить в одно место как можно больше сушняка. Я не сомневался, что утром отыщу обратную дорогу, продираться же чёрной октябрьской ночью здешними лесами вовсе не хотелось.
Конечно, толком не спал. Поддерживал огонь – сушняк быстро прогорал – сидел в полусне, мёрз. Кругом на многие километры был ночной лес, таинственные бесконечные болота, река, которую, сидя к ней спиной, я чувствовал всем своим нутром. Никогда ещё мне не было так одиноко и жутко. Я был маленьким у маленького огонька, который всё время норовил погаснуть. Да ещё в заводи всё время кто-то возился.
И приснилось мне, а может, привиделось: огромная луна над горизонтом, на её фоне дерево, под деревом два человека, держащихся за руки, – большой и маленький, взрослый и ребёнок.
К утру стало совсем холодно. Я расшевелил костёр, отогрелся и уже больше не засыпал. Поднималось солнце, и под его низкими лучами заиграли покрывшиеся за эту ночь инеем трава, мох, стволы деревьев, растянутая между ними паутина. Залив костер, я вышел заводью к дымящейся туманом реке, а там и к своему припрятанному скарбу. До обеда бродил я в надежде добыть глухаря, но не то что увидеть, даже и не слышал ни одного.
Потом долго ещё пробирался мхами к землянке и всё держал в голове тот сон. Вспомнил: то, что приснилось мне, я видел когда-то на придорожном рекламном щите в Карелии. Тогда я ехал в какую-то совершенную даль: на полторы недели пути. И хотелось этой дали, и было тоскливо; я всё думал о жене, о сыне. Тоска эта, эта нежность к оставленной семье, к дому переплелись в такой тугой клубок! Фигуры этих двух людей, державшихся за руки, очень взволновали меня. Теперь же что-то большое и важное я нёс
через мхи до самой землянки. А когда, наконец, дошёл, то совершенно точно знал, зачем трачу столько сил, работая почти без отдыха.
Погода изменилась не так, как мне думалось: не вдруг. Утром в белёсой дымке поднялось солнце, к обеду дымка превратилась в покрывало во всё небо, сквозь которое солнце проглядывало мутным пятном. А вечером начался мелкий тихий дождь. Я долго не мог уснуть, ворочался на нарах. Уже за полночь мне показалось, что снаружи кто-то ходит: слышались шаги, и вроде брякнул котелок, оставленный мной на столе. Я обрадовался. Так бывает, когда долго-долго катишь по ночной дороге, кругом лес, лохматые ёлки в свете фар, и не огонька вокруг. И вдруг городок! Даже люди кое-где в поздний час.
Я поспешно поднялся и распахнул дверь. Но за ней было черно, только сеял дождь и шелестела сухой листвой осина. Потом скорее почувствовал, а не услышал далёкий гул. Громким он не стал и, чуть донёсшись, начал удаляться, замирать. Машина?! За лесом, по трассе прошла машина – первое, что пришло мне на ум, шевельнув в душе струнки, от которых почему-то сладко заныло внутри. И стало мне так, как в тот день, когда навеяло дымком и осенью в открытый ветровик моего тягача. Но разве можно услышать трассу, до которой больше двадцати километров? Или это просто зародившийся в болотах ветер прошёлся над сосновой гривой? Только сразу встало перед глазами уходящее вдаль серое полотно дороги, нестерпимо захотелось услышать сонное бормотание усталого дизеля, почувствовать сладковатый запах разогретой солярки. Представилось: стоит теперь в дальнем углу гаража мой тягач, незаводимый уже неделю, опадают на него желтые листья, и дворник Егорыч, чтобы не ходить лишний раз к контейнеру, заметает листья ему под брюхо. И даже не жалость, а нежность проснулась во мне к этому, теперь мне казалось, живому существу. Подумалось, что тоскливо ему там стоять. Почему-то подумалось именно как про живого: тоскливо.
Разрасталась тоска и во мне. Тоска по семье, которую я почти не вижу. Я корил себя, что этот выбитый мною отпуск трачу на рябчиков, а не на родных людей, которые любят, ждут меня, терпят непростой мой характер. И что же это за страсть такая – охота, что порою забываешь ради неё всё? Забываешь, не замечаешь любящих, грустных глаз провожающей тебя жены, вопросительно-ждущих глаз сына? А может, всё же не поедет, может, останется?
Долго ещё стоял я у раскрытой двери, смотрел в мокрую темноту. А на следующий день высыпал всё печенье на стол синицам. Синицы тоже вот суетятся. Им надо есть, чтобы не околеть с голода, пережить зиму, весной отложить яички – великий смысл в их суете.
Высыпал, собрался и пошёл к узкоколейке.